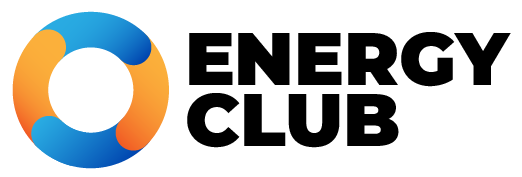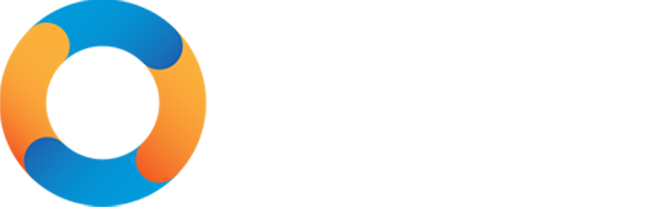Ник Батлер
Этот год запомнится как момент, когда долгожданный энергетический переход к будущему с низким уровнем выбросов углерода однозначно перешел от темы обсуждения к сдвигу по существу.
Этот переход от ископаемого топлива все же займет больше времени, чем многие хотели бы, но темпы изменений будут опережать современные прогнозы.
Covid-19 — лишь один из факторов в этой истории, которая на самом деле сложнее. Реальным движущим фактором стало решение энергетического бизнеса, в частности европейских нефтегазовых компаний, таких как BP, Shell, Equinor и Total, о том, что по основным коммерческим причинам они должны быть на зеленой стороне проекта будущего. Это отражает аналогичную позицию и среди энергопотребляющих компаний во многих других отраслях промышленности.
Сопротивление возобновляемым источникам энергии было признано бесполезным и плохим бизнесом. Новое мышление приобретает сейчас главенствующую роль, потому что картель ОПЕК утратила способность контролировать цены на нефть из-за устойчивого избытка потенциального предложения над спросом.
Цены и на нефть, и на газ снижались с 2014 года. Спад, последовавший за распространением Covid-19, еще больше повлиял на цены в этом году. Результатом стали обширные списания активов — 22 млрд долларов только для Shell — и осознание того, что многие запланированные проекты больше не являются коммерчески жизнеспособными.
Нефть, конечно, все еще востребована. Спрос на нее не может быть легко заменен в таких областях, как грузовые или воздушные перевозки. Но поскольку цены ограничены доступностью поставок — не в последнюю очередь из сланцевого сектора США и производителей, отчаянно нуждающихся в доходах, — многим международным нефтегазовым компаниям будет трудно инвестировать в разработку ресурсов, требующих более высоких устойчивых цен, чтобы обосновывать их коммерческую жизнеспособность.
Запасы, которые можно разрабатывать по текущим ценам, сосредоточены на Ближнем Востоке и в других нестабильных районах, таких как Венесуэла и Ливия. Почти все поставки контролируются государственными компаниями и поэтому недоступны для международных компаний.
Зависимость от таких областей, вероятно, будет расти, но будет стратегически непривлекательной для стран-импортеров. США, возможно, достигли эффективной самодостаточности, но Европа и Азия, которая в настоящее время импортирует 50 процентов всей нефти, которая продается на международном рынке, по-прежнему зависят от внешних поставщиков. Такие страны, как Китай, который импортирует 12 млн баррелей в день, Япония (3,7 млн баррелей в сутки) и Индия, чей импорт вырос на две трети до более чем 5 млн баррелей в сутки за последнее десятилетие, являются наиболее уязвимыми.
Энергетическая безопасность, не говоря уже о проблемах климата, будет стимулировать стремление максимизировать производство энергии на местном уровне. Доминирование в Китае некоторых более новых, более экологически чистых энергетических технологий — от ветровой и солнечной до улучшенных энергосистем — свидетельствует о дискомфорте, который Пекин испытывает от своей зависимости.
Водород, хранение энергии, даже новое поколение недорогих ядерных установок — это возможности. То же самое относится и к инфраструктуре — от электросетей до систем зарядки, — которые необходимы для соответствия спросу новых поставок. Здесь также требуется изменение мышления. После десятилетий, сосредоточенных на производстве, компании должны приспособиться к рынку, на котором выбор потребителя будет диктовать, что и как поставлять.
Во многих отношениях некоторые из этих компаний опережают правительства, которые в последнее десятилетие посвятили большую часть своего времени попыткам заключить недостижимые глобальные соглашения о сокращении выбросов.
Однако есть признаки того, что акцент сместился на промышленные задачи и борьбу за конкурентное преимущество в новой энергетической среде, сформированной скорее знаниями и технологиями, чем ресурсами.
В настоящий момент преимущество имеет Китай, но он столкнется с конкуренцией со стороны Японии, Германии и Великобритании, где корпоративные инвесторы будут получать поддержку от правительств, которые все больше обеспокоены амбициями Китая.
Все эти события подрывают многие общепринятые долгосрочные прогнозы энергетического баланса. Согласно последнему изданию Статистического обзора BP, в прошлом году на углеводороды — нефть, газ и уголь — приходилось 80 процентов мирового спроса на энергию. Этот процент практически не изменился за последние два десятилетия. Было достигнуто соглашение в отношении того, что на долю углеводородов все еще будет приходиться 70 или более процентов даже через 10 или 20 лет.
Но смещение коммерческих приоритетов изменит временные рамки. Covid-19 не вписался в новый «зеленый» миропорядок, но его влияние на энергетический рынок заставило пересмотреть коммерческие реалии.
Последний отчет Международного агентства по возобновляемым источникам энергии показывает, что в этом году впервые в мире глобальные инвестиции в возобновляемые источники энергии опережают инвестиции в нефть и газ.
Этот этап выглядит как гораздо более быстрый переход, чем считалось до недавнего времени, и сопоставимым по скорости и охвату с IТ-революцией последних двух десятилетий.
Перевод на русский — медиадепартамент Energy Club